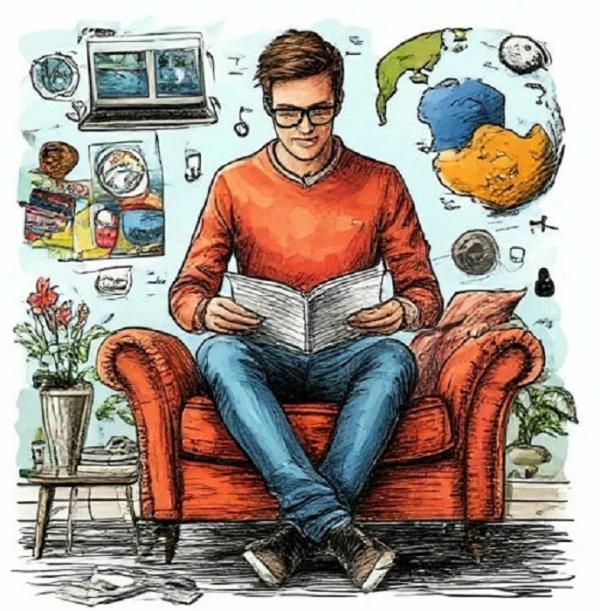Мы оказались в довольно парадоксальной ситуации мировой истории. Человечество никогда не производило столько информации, сколько за последние десятилетия. Знаний больше, чем когда-либо. Доступ к ним – проще, чем когда-либо. Но средняя глубина их потребления при этом снижается. Чем шире аудитория, тем проще становится текст. И это не случайность, а закономерность, которую можно проследить на протяжении двух тысяч лет.
В античности чтение и письмо были привилегией крайне узкого слоя. Гай Азиний Поллион – сенатор, полководец и литератор (он написал «Историю Римской гражданской войны» в семнадцати книгах, почти все авторы, писавшие позднее, так или иначе отталкивалось от него). Он фактически создал модель литературной сцены: автор, круг компетентных слушателей и добровольная цензура. Его recitationes – камерные чтения – собирали людей, способных оценить стиль, аргументацию, аллюзии. Литература проходила строгий отбор не потому, что её кто-то запрещал, а потому что аудитория была крошечной и требовательной.
Здесь Вергилий читал первые главы своей «Энеиды», а Гораций делал первые шаги на литературном поприще. Здесь с удовольствием разбирали как труды членов кружка, так и древних авторов, так что можно сказать – Гай Поллион стал одним из основателей и литературной критики.
Читать умели единицы, рабы и легионеры не были включены в этот круг. Высокая культура существовала внутри элитарной среды (на чтения к Поллиону приходил император). Слово ценилось, но оно не было массовым.
Ситуация кардинально изменилась спустя почти полтора тысячелетия вместе с появлением книгопечатания. Печатный станок Гутенберга добавил к связке «автор – читатель» третьего участника – печатника, книги стали дешевле, а тиражи – больше. Расширение аудитории резко ускорилось. А вместе с этим выросла и политическая сила слова. Лютер, Эразм, Коперник – их идеи оказали такое влияние на нашу историю именно благодаря массовому распространению.
Реформация показала: текст способен менять политический ландшафт. Но массовость принесла и новый институт – государственную цензуру. В трио «автор – читатель – печатник» вошёл цензор. Чем шире круг читающих, тем сильнее было стремление государства (а потом и других игроков) контролировать содержание.
В XIX веке происходит следующий шаг: литература становится коммерцией. Александр Дюма издаёт «Трёх мушкетёров» по главам, превращая роман в серийный продукт с огромными тиражами.
Конечно, главной причиной этой популярности было его литературное мастерство и умение почувствовать настроения и желания читательской аудитории. Франция совсем недавно пережила революцию, борьбу за всеобщее равенство перед санкюлотской гильотиной, затем бурный рост и не менее бурное падение империи Наполеона, которая также серьезно изменила правовой и социальный ландшафт. Перемены обычно если и радуют, то «задним числом», а в процессе скорее порождают ностальгию по «былым временам», И Дюма дал им историю как раз про это, про монархию прошлого, где все дерутся на дуэлях, спят со всеми подряд, пьют, гуляют, но никто ничего, кроме разве что кардинала, не пытается с этим сделать.
И одновременно – он сделал текст более доступным даже для тех, кто освоил грамоту, но не закончил университет. Буржуазная культура расширила читающую аудиторию, и надо было учитывать возможности и вкусы этого массового читателя. Есть легенда, что Дюма придумал диалоги из коротких фраз на несколько страниц, поскольку ему платили построчно. Но не будем забывать, что текст в таком формате читается и воспринимается намного проще, а значит больше было тех, кто ждал продолжения этого книжного марафона и бежал в лавку за новым выпуском.
По его пути затем пошли и другие, например, Вальтер Скотт, постепенно формируя новый литературный канон. Тексты становятся проще не потому что авторы утрачивают мастерство, а потому что они ориентируются на более широкий рынок. С этого момента популярность начинает напрямую зависеть от понятности. Вы сами можете легко проверить это, сравнив книгу, написанную в середине XVIIIвека и сто лет спустя.
Дальнейшее распространение грамотности лишь усилила этот процесс. Как это часто бывает, источником инноваций стала военная сфера. В Пруссии ввели мобилизацию как средство наполнения армии и срочную службу, это требовало серьезного сокращения сроков подготовки рекрутов, а значит – они должны были обладать базовой грамотностью к моменту призыва. В результате Пруссия стала первой европейской страной, которая ввела массовое школьное образование. «Войну выиграл прусский учитель» – это не просто афоризм, приписываемый Бисмарку. Затем выяснилось, что промышленная революция и рост городской экономики выдвигают к населению те же требования. В итоге весь XIX век идет рост образовательной инфраструктуры и к концу этого столетия читать умеет большая часть населения ведущих мировых держав (колонии в этом плане сильно отставали, но и там происходили схожие процессы).
Но навык чтения не равен глубине понимания. Тексты упрощаются, чтобы их понял рекрут или рабочий, а не философ. Массовая грамотность не означает массовую культурную сложность. И вскоре, на рынке печатного слова начинают преобладать тонкие брошюры с развлекательными текстами и периодическая печать.
В XX веке Уильям Рэндольф Хёрст доводит идею коммерциализации внимания до промышленного масштаба. Широко известна история периода испано-американской войны. Когда его крреспондент сообщил из Гаваны, что войны, видимо, не будет, Хёрст по легенде ответил: «Вы поставляйте картинки, а войну я обеспечу».
В 1898 г. газета Хёрста опубликовала украденное личное письмо испанского посланника, содержащее оскорбления в адрес президента США Маккинли, что усилило антиисп. Тогда Хёрст в своих газетах обвинил Испанию без доказательств, сделав заголовок «Помните Мэн!», что стало прямым предлогом к войне.
Эта история хорошо отражает суть явления: «жёлтая пресса» работает не с анализом, а с ощущением. Читатель превращается в рынок, текст начинает конкурировать за внимание, а не за глубину.
Радио, кино и телевидение снизили порог восприятия ещё сильнее. Радио не требует чтения, кино – воображения, телевидение – усилия. Каждый новый медиаканал делал культуру доступнее и одновременно менее требовательной к зрителю. Однако до конца XX века сохранялись последние сдерживающие механизмы: редакционные фильтры и институциональные ограничения.
Решающий сдвиг происходит с появлением Интернета и его алгоритмов. Интернет сам по себе – всего лишь новая форма печати, алгоритм же делает индивидуальную настройку. Он анализирует реакцию каждого человека и предлагает не то, что важно, а то, что вызывает отклик.
Это принципиально поменяло ситуацию. Если Хёрст работал с массой, алгоритм работает персонально. Алгоритм обучается на реактивном контенте. Но если сложная мысль требует времени, то реакция возникает мгновенно. Поэтому упрощение становится не просто следствием массовости, а её ускоренной цифровой версией. Раньше примитивный текст нужно было купить в киоске, теперь он приходит сам. Редактор мог отклонить материал как поверхностный, алгоритм продвигает то, что удерживает внимание.
Все вместе это напоминает эволюцию, которая, конечно же, не всегда движется прямо и результаты ее неоднозначны. Печатный станок породил как бульварную литературу, так и Реформацию. Газеты принесли не только манипуляции, но и общественную дискуссию. Телевидение транслирует и пропаганду, и документалистику. Так и алгоритмы породили клиповое мышление, но одновременно открыли доступ к университетским лекциям, архивам, редким текстам.
Да, расширение аудитории сопровождается упрощением формы. Но при этом сложные тексты никогда не исчезали полностью. Такое творчество уходило в глубину, становилось нишевым, требующим усилия, но при этом, в определенном смысле - элитарным.
Сегодня мы наблюдаем лишь очередной виток того же процесса. Чем больше людей получают доступ к слову, тем проще становится средний текст. Но одновременно возникает слой тех, кому тесно в упрощённой среде. Именно они снова начинают искать сложное, поднимать планку.
Сергей Исаев
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии